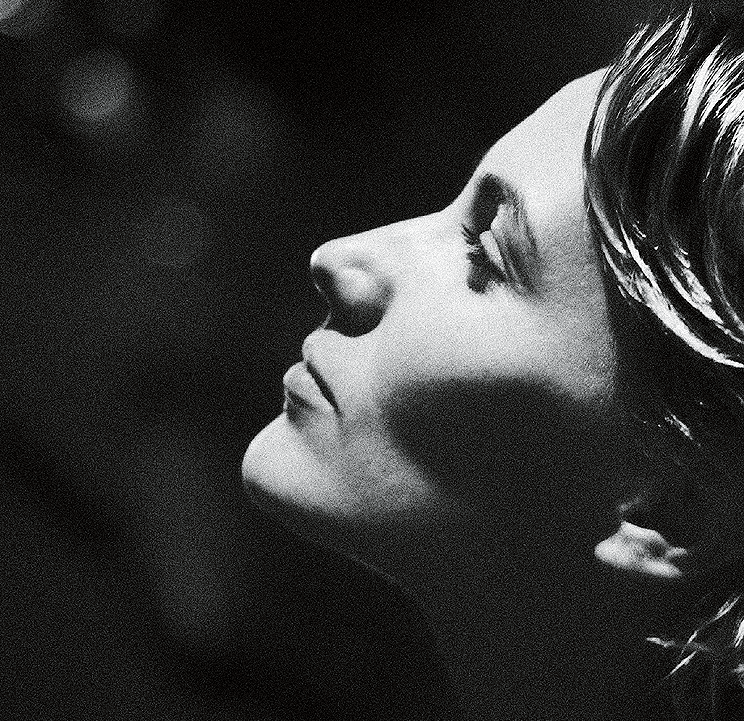|
EN
RU |
Степень приближения19.06.2010 Решение этическое — снимать или не снимать — не зависит от срока его принятия. Но оно может быть изменено — после съемки. кто-то будет сожалеть, что не снял важный кадр, другой не покажет отснятый сюжет никогда. Этическое решение выражает внутреннее строение личности, понимание и принятие фотографом законов этики.
Ирина ЧМЫРЕВА
Кандидат искусствоведения, куратор фотографических выставок, автор текстов о фотографии, доцент Московского государственного университета печати Это письмо редактору также можно назвать «Степень доверия». Кто-то из читателей (я знаю, у моих писем есть читатели — и это вселяет в меня надежду, что и тексты, и мое писание не бесполезны) скажет, что я в очередной раз касаюсь вопросов не столько фотографических, сколько этических. Меня действительно волнуют проблемы этики фотографического поля. Этического отношения фотографа к изображению. Изображению в фотографии… Имеется в виду предмет, запечатлеваемый фотографом? Или отбор отснятого материала для предъявления его публике? Меня интересует и то, и другое. Предмет съемки. Его выбор. В репортажной фотографии на решение поднять камеру и сделать кадр уходят секунды. В постановочной фотографии — часы, дни, иногда годы, пока, как у художника, родится образ, который должен быть «установлен». Можно ли сравнивать эти два несхожих процесса (тот, который разрешается в течение доли секунды, и долгосрочное рассмотрение, принятие взвешенного решения)? Безусловно. Решение этическое — снимать или не снимать — не зависит от срока его принятия. Но оно может быть изменено — после съемки. Кто-то будет сожалеть, что не снял важный кадр, другой не покажет отснятый сюжет никогда. Этическое решение выражает внутреннее строение личности, понимание и принятие фотографом законов этики (не обсуждаем сейчас, насколько фотограф согласен со всеми этическими установками общества в том времени, когда он живет). Этическое начало одной и той же личности может меняться со временем, и продиктовано это не только изменениями общественной морали, но и индивидуальным опытом. Фотограф может быть не согласен с собою прошлым, когда он сделал снимок в критической ситуации, когда фотографирование было единственным жестом проявления реакции со стороны человека с камерой. И тогда он может надолго (если не навсегда) запретить публикацию собственноручно сделанной фотографии. Подобная этическая цензура может быть проведена со стороны его соавторов, редакторов, родственников. Так случилось после смерти Эжена Смита: вдова передала права на снимок японской девочки с генетическими нарушениями ее родственникам, и те запретили публикацию широко известной фотографии (имеется в виду композиция «Томоко в ванной») на 25 лет со дня смерти девочки. Но помимо этики фотографа (в виде самоцензуры) меня интересует культурная обусловленность выбора сюжетов съемки фотографом. Несколько лет назад пожилая американская фотографиня показала мне серию снимков ее спящего мужа. Что это было? Уставший за день не знакомый мне пожилой человек спал за обеденным столом после ужина, на диване перед телевизором, в шезлонге с газетой в руках. Не было снимков в постели, не было обнаженного немолодого некрасивого тела. И все-таки фотографии незащищенного слабого лица вызвали у меня как у зрителя страх и протест. Чужого человека лишили интимности, его личного пространства, его сокровенных тайн, снов, которые он видел в тот момент, когда его снимали. Эта серия показалась мне жестокой тем детским любопытством, о котором говорят, что оно — ангельское (дети, как ангелы, как Адам и Ева до грехопадения, до того, как познали добро и зло). Наивность «детского взгляда» художника была одета в камзол художнического перфекционизма: красивые композиции с диагоналями, искусственным светом кухонных ламп и драматическими тенями на лице, большие и тем эффектные профессиональные отпечатки. У спящего человека некрасиво кривились губы, в уголке рта скопилась слюна, волосы седыми сальными клоками падали на лоб и скрещенные под головой руки… Художник Эгон Шииле рисовал свою больную туберкулезом беременную жену… Среди героинь пастелей Тулуз-Лотрека женщины, с которыми он был близок… Прошли годы, и мы не задумываемся над историями моделей художников, восхищаясь искусством (вслед за теми, кто увидел в произведениях общечеловеческое и гуманистическое (даже если антигуманное)). Пройдут годы, и фотографии пожилого спящего мужчины (уже не мужа конкретной женщины, увлеченной фотографией, но человека конца ХХ века) «очистятся» от степени близости и предательства совершаемого по отношению к близкому человеку художником во имя искусства и станут «всего лишь произведением». Фотография в отличие от живописи, других старых видов изобразительных искусств обладает пугающей степенью приближения к предмету, которую (в том отличие рисования, дистанцирующего объект степенью субъективной трансформации) невозможно преодолеть. Просматривая историю российской фотографии до Бориса Михайлова, до харьковской школы фотографии, до литовцев конца 1970-х, не назвать снимков, приоткрывающих завесу над частным и бытовым. Фотография развивается в конкретном культурно-историческом континууме, и отсутствие тех или иных тем, сюжетов в ней — свидетельство отсутствия внимания со стороны общества (и фотографа как его выразителя) к этим сторонам жизни. Что же Михайлов, другие его современники? Они шокирующе просто, одним жестом «опубликовать!» сдергивают завесу над обычным, бытовым, которое, по сути, одинаково у всех — что голое тело, что еда, секс, — и предъявляют зрителю. Подгляды-вание? Или констатация обыкновенного, принятие зрителем перед зеркалом фотографии самого себя (у которого всё то же)? В таком случае, какую роль в обществе исполняет желтая пресса, стереотип пренебрежительного отношения к которой — «низкое развлечение»? Или же эта пресса становится социальным лекарством для обыкновенного человека, снимающим его (ее) депрессию, отменяющим его (ее) комплекс неполноценности в сравнении с идеальными звездами: они в желтой прессе становятся такими же обыкновенными людьми? ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ ОТ ОЧЕНЬ ХОРОШО СНИМАЮЩЕГО ЛЮБИТЕЛЯ? ПОНИМАНИЕМ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ ОБЪЕКТОМ И ЗРИТЕЛЕМ. ПОНИМАНИЕМ СТЕПЕНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ. И ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТЕМ, КТО В КАДРЕ И все-таки культурные традиции надолго сохраняются в обществе и определяют частоту появления тех или иных сюжетов в национальной фотографии. Сколько в российской фотографии похорон? В социальной фотографии этот сюжет есть. А как обстоит дело с портретами мертвых? Увольте, этого в русской культурной традиции не было и сейчас нет. Длинные документальные истории, снимаемые годами об умирании (можете назвать это уходом из жизни) близкого фотографу человека? Каждый год на портфолио-ревю в Америке и Европе я вижу не одно — больше! — таких портфолио. Уход близких из жизни не снимают российские авторы? Я знаю, что снимают. Но публикация (показ) этих историй находится в кругу табуированных тем: слишком личное. Фотография не как произведение = факт общественной значимости, но факт личной жизни, не искусство, а живое чувство. (Юрий Козырев в интервью объясняет отличие «русской фотографии» на международной сцене узнаваемой «выверенностью (выстроенностью) композиции». Продолжая его мысль в контексте выбора сюжетов: у старшего (работающего) поколения фотографов русской школы есть выверенность (осознание социальной значимости) ситуации съемки.) Тем так интересна молодежная фотография из России за рубежом: репортаж «про то же, что у всех» без правил, подобно тому, как это делают сверстники в других странах. И оттого молодым авторам (отовсюду) после первой публикации так сложно удержаться — помимо прямой трансляции — у них редко присутствует сверхидея. Чем отличается профессиональный фотограф от очень хорошо снимающего любителя? Пониманием дистанции между объектом и зрителем. Пониманием степени приближения. И чувством ответственности перед тем, кто в кадре. Хотя последним многие готовы поступиться.
Материал опубликован в 7 номере журнала Foto&Video за 2010 год.
Купите электронный номер и/или оформите онлайн-подписку.
КОММЕНТАРИИ к материалам могут оставлять только авторизованные посетители.
Материалы по теме
|
Календарь событий и выставок
|
|||||||||||||||||||||
| Главная | Арт | Техника | Практика | Конкурс | Журнал | Форум |
|
(c) Foto&Video 2003 - 2024
email:info@foto-video.ru Resta Company: поддержка сайтов |
Использовать полностью или частично в любой форме
материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо только с письменного разрешения редакции. |