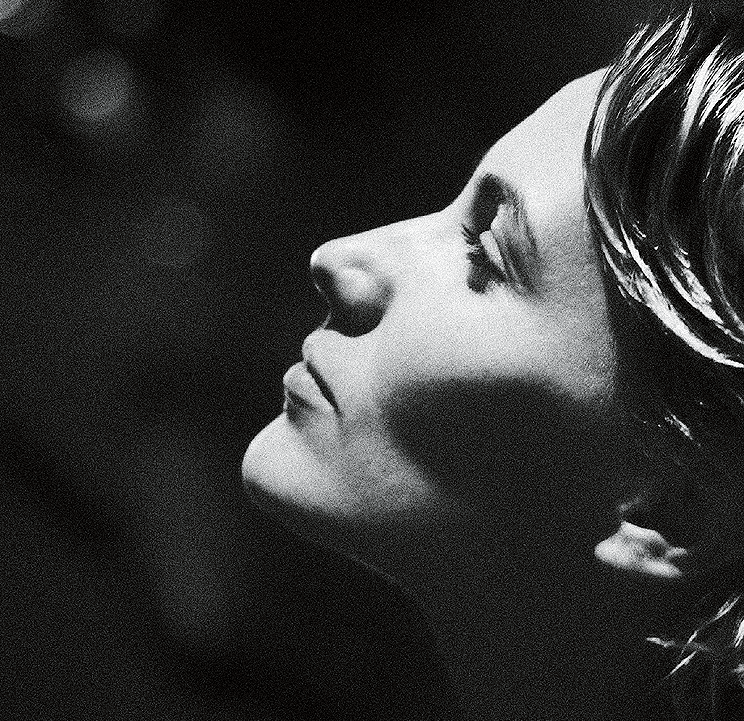|
EN
RU |
Как космонавты23.09.2010 Кандидат искусствоведения, куратор фотографических выставок, автор текстов о фотографии, доцент Московского государственного университета печати.
Ирина ЧМЫРЕВА
Тридцать-сорок лет назад мальчишки на вопрос, кем они хотят быть, уверенно отвечали: космонавтами. С тех пор космос перестал будоражить юные умы, а космонавт выпал из списка престижных профессий. Фотограф никогда не был героем, не вдохновлял на заоблачные мечты о будущем. Спросите известных фотографов, посмотрите мемуары: либо приход в фотографию — устремление уже сознательного возраста, когда юношеские метания, бурление творческой энергии требуют выхода, либо приход в фотографию кажется случайным (даже самому фотографу), и лишь десятилетия, отданные профессии, и успех заставляют утверждать обратное, искать глубинные причины судьбоносного решения. И все-таки для поколений, рожденных в 40-60-х прошлого века, фотограф был если не грезой о будущем, то персонажем, символизирующим свободу, подобно кинематографистам и, в меньшей степени, писателям и художникам. Кому мы верим, что 60-е были эпохой перемен, счастливых улыбок и легких, как ветер, юношей и девушек? Конечно же, фотографии и кино. Вместе с той эпохой наивной веры и устремленности в будущее ушли и космонавты, и надежды на сады на Марсе, и фотография, прозрачная, как утренний свет. Сейчас наступило время подведения итогов сорокалетней давности: уже нет ни Довлатова, ни Аксенова, искусство той эпохи осело в музеях и перестало вызывать острые споры. Теперь и фотографы, снимавшие «солнечную эпоху», тоже уходят. Этим летом не стало Анатолия Ерина. В Москве было жарко и пусто. Это было еще до пожаров, но уже глубоким летом. На прощание пришло совсем немного близких. Еще весной на похоронах Слюсарева, гораздо более активного, яркого деятеля последнего десятилетия, меня резануло: как мало людей находят время и силы прийти и проститься лично. Уходит эпоха. Как-то тихо, мимо, проскальзывая в тени сегодняшних событий и героев, слава которых проносится на сверхзвуковых. С Ериным пришло увидеться в последний раз народу еще меньше. Возможно, личное общение и традиция личных прощаний выпадает из круга обязанностей поколения интернета. Да и помнили о Ерине в последние годы те, кому за тридцать, — а это уже не самый активный возраст в фотографических кругах. Глядя на людей при гробе, невольно задумываешься о том, что есть профессия в фотографии. Профессия фотограф — удел молодых. Век фотографа длиннее, чем у балерины, но все-таки короток. Переход к зрелому возрасту для фотографа становится новой карьерной ступенью — креслом фоторедактора, что означает все-таки смену деятельности, либо степенью учителя в фотографической школе, либо полной сменой деятельности. Немногие с годами, когда видено уже достаточно и опыт снятого застилает видоискатель камеры, остаются по-прежнему жадными к новым впечатлениям и способными соревноваться с «молодыми волками». Чем старше становится человек в фотографии, тем чаще его интересует «как», «зачем» снимка, чем «что» сюжета. Я пишу сейчас, имея в виду фоторепортаж и прямую фотографию, связанные с изменчивой реальностью более, чем с упорядоченностью студии. Между погоней за кадром и его постановкой сходства больше, чем может показаться сначала, и все-таки психология «полевого фотографа» — психология молодого человека. И тем страшнее в профессии наступление возраста. Он как бы выкидывает за пределы привычного круга, внутри становится все больше новых лиц, новых приемов. Сегодня в репортаже фотографы работают едва десятилетие, единицы закрепляются в нем надолго, превращаясь в легенду. Молодые, полные сил и счастливого неведения о том, что было до них, бросаются в фотографию, как в море, плещутся на волнах новых технологий, коронуют своих героев на территории интернета. Когда нет изданной истории российской фотографии, нет списка важнейших имен, которые не знать нельзя, то, что Слюсарева, знакового фотографа 1970-1990-х и снимающего гуру 2000-х, знают и помнят — его личная заслуга. Не сравнивая величины и степени влияния на современных авторов Слюсарева и Ерина, замечу, что оба они в истории российской фотографии важны, каждый по-своему. Слюсарев — эпоха. И Ерин — эпоха. Жившие одновременно, они как бы существовали в разных культурных пространствах, в разных мирах. Эпоха Ерина замешана на советских мифах и все-таки очень русская, вырвавшаяся за пределы бравурной городской тематики строительства нового мира, временных схем композиции и трактовки сюжетов, предложенных в рамках соцреализма. Еринская эпоха сложная, противоречивая, в иных проявлениях кажущаяся сомнительной и все-таки настоящая в своем бытии. Особенно когда он обратился к теме Русского Севера, архитектуры дворянских усадеб и старой Москвы, которую очень любил. Его путь во многом типичен для интеллигента советского времени: из молодости «Я шагаю по Москве» в любование приметами прошлого и вечной красотой природы в зрелые годы. Пейзажи Анатолия Ерина, сделанные им первые иллюстрированные фотографиями книги классической русской литературы, мягкие моноклевые портреты — они сформировали представление фотографов 1980-х — начала 1990-х об изобразительных возможностях фотографии. Еринские опыты стали отправной точкой для движения авторов, порой весьма далеких от его визуального традиционализма. В конце 1990-х — начале 2000-х тексты Анатолия Николаевича о технологии цифровой печати были первыми исследованиями в российской фотографической литературе новой цифровой эры. А потом он перестал писать, публиковаться — болезни, возраст. И во времена, когда утренняя новость к вечеру уже не просто устарела, но забыта, о Ерине перестали говорить. Вдумайтесь: человек пережил свою профессиональную известность. В фотографии. Которая была для Ерина всем, всей его жизнью. На кого возлагать ответственность за произошедшее? Виноваты никто и все. Лично перед Ериным просить прощения, что не написали, не показали, не издали, уже поздно. За то, что Ерина нет в истории российской фотографии, ответственны все мы, пишущие сегодня, и кураторы, и преподаватели. Страшно подумать, что будет дальше, когда за десятки имен первопроходцев и просто отличных художников, за многие десятилетия активного развития отечественной фотографии будут предстоять на страницах книг лишь два-три героя. Неужели фотографы 60-80-х, как космонавты-герои, вычеркнуты из памяти культуры «за несовременностью»?
Материал опубликован в 10 номере журнала Foto&Video за 2010 год.
Купите электронный номер и/или оформите онлайн-подписку.
КОММЕНТАРИИ к материалам могут оставлять только авторизованные посетители.
Материалы по теме
|
Календарь событий и выставок
|
|||||||||||||||||||||
| Главная | Арт | Техника | Практика | Конкурс | Журнал | Форум |
|
(c) Foto&Video 2003 - 2024
email:info@foto-video.ru Resta Company: поддержка сайтов |
Использовать полностью или частично в любой форме
материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо только с письменного разрешения редакции. |